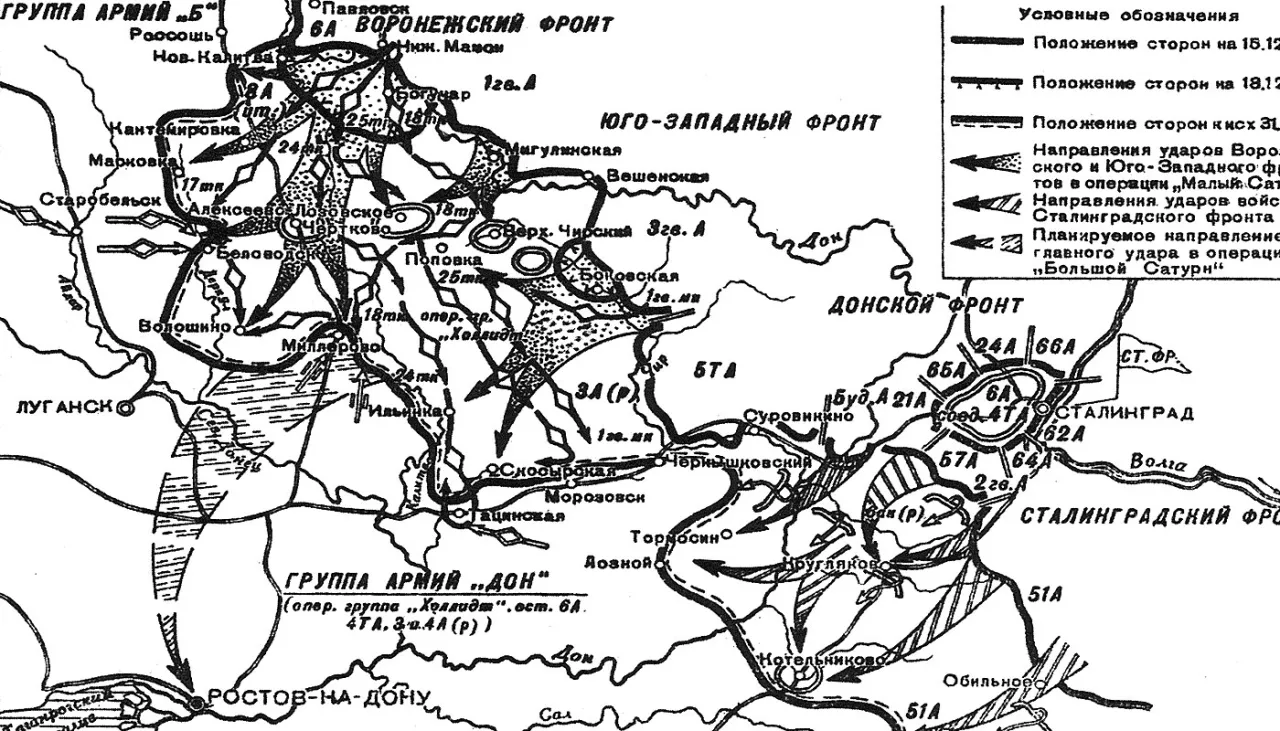Наш отец Михаил Андреевич Шиманов, связист первого гвардейского механизированного полка Третьего Украинского фронта, был участником Великой Отечественной войны. Говорить о ней он не любил. Может, потому, что было много ненужных запретов в то время или, может, в нём ещё сидел страх тех жутких чисток, гонений и террора, происшедших в Союзе перед войной (да и после). Война — это кровь, убийство, насилие. Прошедшим через неё о ней тяжело говорить. Высказать своё мнение не всегда нужно и можно (без последствий), а с бравадой рассказывать о геройстве своем и чужом отец не мог, да и не обладал он особой агрессивностью и кровожадностью. Он считал, что война — это не театр, пустословие здесь ни к чему. По-своему осуждал даже тех, кто рассказывал о войне детям в школе или в любом общественном месте, считал, что рассказчик этот вряд ли «нюхал фронтовой порох». События войны он переживал без чьего-либо соучастия, только в своей душе, это были его личные переживания. Я постараюсь, как могу, все, что он рассказывал нам, всё-таки передать вам, моим детям и внукам, всем желающим, и ещё раз что-то узнать о той уже почти забытой войне и о нём, её солдате, затерянной песчинке в море житейского бытия.
Погиб папа у нас в мирное уже время, когда мне было 32 года. В детстве своём я только однажды слышала от него рассказ о войне — и то в весёлом ключе, рассказанный, как говорится, в тему. Освобождали они Украину и Молдавию. Местное население на радостях выносило освободителям всё последнее, свою еду и питьё. Навстречу папе и его фронтовому товарищу вышла маленькая, худенькая, согбенная, древняя-древняя, чуть не покрытая мхом старушка и от всего радушного сердца протянула папе запотевшую кринку холодного молока. Было жарко, пыльно, солдаты смертельно устали от перехода, а бабусин подарок оказался как нельзя кстати. Какая радость! Взболтнул мой молодой ещё в то время папа кринку (чтоб и товарищу сливок досталось), отпил с удовольствием половину и протянул другу. Бодрящее, холодное, вкуснейшее молоко! Тот быстро, с жадностью почти допил остатки, как-то странно попятился, чуть не упал, отстранил от себя кринку, и оттуда, из кринки, выпрыгнула живая, очумевшая от болтанки лягушка. У товарища от брезгливости началась безудержная рвота, он ведь сибиряк, впервые столкнулся с таким. У папы получилась обратная реакция — он никак не мог остановить безудержный смех. Вот здесь-то они и узнали, что местное население кладёт в кринку специальных чистых, вымытых лягушек для сохранности молока.
Этот случай рассказывал нам папа, по-моему, даже дважды.
Потом, позже уже рассказывал, что в Венгрии его поразило обилие откормленных, тучных пестрых свиней и националистически настроенное местное население. Все или почти все источники воды были отравлены, бойцам пить воду из колодцев, есть непроверенную пищу категорически запрещалось. Не сильно радовались венгры освобождению; крестьянская, зажиточная, самодостаточная страна была. А солдатам-освободителям питаться нужно. Хоть и лежит ещё свежая туша свиньи, и многие могли бы ещё её есть, но уже успел кто-то ядом посыпать! Приходилось пристреливать снова живую свинью. Папу, сельского жителя, познавшего муки голода, такое расточительство поражало, да и не только его…
Перед каждой атакой, освобождением особо крупного населенного пункта политруки объявляли солдатам его наименование, все должны были знать и четко назвать его (видимо, и на войне бюрократия не теряла своих корней, вдруг кто-то сверху проверит!). Освобождали они город-крепость Секешфехервар, так бойцов заставили даже заучивать это сложное для уха русского солдата имя города. Спустя десятки лет папа иногда, дурачась, предлагал мне и моим многочисленным братьям (родным и двоюродным) повторить это слово, получалось только у меня, а ему оно, как и мне тоже, врезалось в память на всю жизнь.
Кратко, без подробностей рассказал однажды, что видел во время атаки автоматически, по инерции бегущего безголового солдата, тот бежал метров сто до тех пор, пока не споткнулся и не упал. Голову ему снесло снарядом.
Недавно напомнила старшая наша сестра его рассказ о Балатоне, как они тянули и восстанавливали связь по замерзшему озеру. Я, оказывается, уже забыла. «Ползу я с тяжелой катушкой провода, а кругом вмерзшие трупы погибших солдат и пули — вжик, вжик. И только отмечаю в сознании: не моя, не моя, моя — молчаливая! Связь прерывается, вновь возвращаешься назад, устраняешь обрыв — и обратно, вперед!»
В 80-х годах наступило, как говорится, послабление режима в нашей стране, уже допускалось пропустить анекдотец с политической тематикой или хотя бы выслушать его. И однажды я услышала от своего отца, видимо, главную, тщательно скрываемую им его тайну. Он просто сказал: «Я знаю, что такое голод, я во время войны крыс травлёных ел!» Преподнес как-то буднично, но чувствовалось, что это откровение далось ему крайне нелегко, он его носил в себе столько лет, лелеял, хранил, охранял и, наверное, боялся даже сам себе сказать вслух и, кажется, даже внутренне осуждал себя за эту свою, как он считал, слабость. Да и, надо добавить, вообще-то по жизни он был достаточно брезгливым человеком, здесь, видимо, главную роль сыграл чисто животный инстинкт, инстинкт самосохранения молодого организма.
Потом он рассказал, как его призвали в армию. Думаю, он был недокормышем и недоростком в семье, а может быть, это было их наследственное, природное (резкий скачок роста уже после 18-летия). Детей было шесть. Их отец Андрей Евдокимович Шиманов, участник массового переселения в Сибирь, перед войной выехал пролечиться на свою родину, в Центральную Россию, и в 1942 году умер от рака где-то в Ростове Великом в возрасте сорока двух лет. Мать Анюта, не особо расторопная и хваткая женщина, не в состоянии была прокормить столько детей, у неё во время войны умерла дочь 19 лет, подхватила туберкулез, а при плохом питании он неизлечим. Итак, даже в лихолетье старший из четырёх сынов (мой папа) не попал сразу же в действующую армию: как он сокрушался потом, ему не хватило всего сантиметра роста! Я допускаю, что здесь, может быть, он смалодушничал, не настоял на отправке на передовую, пустил всё на самотёк. В этом судьба его наказала. Да и не заражен был ура-патриотизмом. Заземленный сельский паренёк, большой любитель строить и конструировать, с прозвищем из детства Прораб.
И нам ли судить его?
Он попал в трудовую армию. Охраняли где-то на Урале зерносклады. Кормили их крайне скудно, если не сказать, что чаще всего вообще не кормили. Здесь-то с голодухи второсортные люди, трудоармейцы, подбирали отравленных крыс и ели их. Через полгода такой службы истощенного до крайности, цинготного «бойца» Шиманова М.А. списали со службы и отправили домой в Алтайский край — то ли умирать, то ли восстанавливать свое шаткое здоровье. В масштабах страны он отработанный материал.
Как и каким видом транспорта был доставлен папа и как оказался на железнодорожной станции «Поспелиха», он не помнил. Нам остаётся догадываться, что, наверное, также железной дорогой. Помнил, что кто-то, добрый человек, подсказал ему, что на товарной базе может быть обоз с их района и, может быть, у них изыщется возможность подвезти его, не пешком же идти больше сотни километров. Да и не дошёл бы он, от него и так-то простой люд шарахался!
Узнал: к счастью, завтра возвращается пустой обоз прямо в Краснощеково, пообещали его подвезти. Жил он тогда в селе Мурзинка, немного не доезжая до райцентра и чуть в сторонке от тракта, там он и ползком мог бы уже доползти!
До завтра времени много, отошел от базы папа, присел, привалился к подвернувшемуся забору, разомлел на весеннем солнышке, да и слаб очень был, придремнул…
И вдруг сувствует на себе взгляд. Чуть приоткрыл глаза — незнакомая женщина стоит. Она обрадовалась, что он жив: «Бедняга, ты, наверное, есть хочешь?» Папа слабо кивнул головой. Женщина тут же принесла литровый чугунок еще теплой, варенной в мундире мелкой картошки. Изголодавшийся папа в мгновение ока расправился с ней, не до чистки — вместе с кожурой! Напуганная женщина принесла другой чугунок, точно такой же. Эту картошку уже опьяневший от сытости папа начал есть очищая. Изможденный, истощенный, с раздутым, выпирающим на тощем теле желудком, он выглядел, наверное, не лучшим образом, потому что женщина, накормившая папу, Христом Богом заклинала его и умоляла уйти от её забора: «Не дай Бог, ты умрёшь здесь, затаскают тогда меня!»
Назавтра в обозе нашелся знакомый, который знал даже папину тетку М.Е. Семиренко, работавшую в Новофирсовской школе учительницей (село Ново-Фирсово расположено по пути в райцентр Краснощеково). К вечеру заехали в село и прямиком к Марии Евдокимовне: «Принимай, мы тебе гостя привезли!» Та взглянула отстранённо на папу, сказала в раздражении: «Привезли доходягу! Могли бы хоть раз и родственника привезти. Всё чужих возите!» «Тётка Мария! Ты не узнаёшь меня?» — с обидой и горечью окликнул её папа.
Только по голосу та узнала своего племянника: «Мишатка, Мишатка!»
Минул почти год. Едва выживший, но восстановившийся и подросший на десяток сантиметров рядовой Шиманов М.А. стоял в шеренге новобранцев на плацу Барнаульского краевого призывного пункта. Бодрый, вышколенный офицер объявил всему строю: Кто хочет стать красным командиром? Шаг вперед!» Все, кроме папы, сделали шаг вперед. Недоумевающий офицер громче повторил команду: «Кто хочет стать красным командиром? Шаг вперед!» Шеренга подвинулась ещё на шаг, папа остался на месте.
— Кто такой? — взъярился командир.
Папа назвался.
— Ты не хочешь быть офицером?
У папы было образование 9 классов, достаточное для командного состава, но память испытанного смертельного голода в тылу парализовала и затмила папин разум. Пусть умру, но не на голодный желудок, не голодной смертью!
Через двое суток рядовой Шиманов М.А. уже был на передовой, ведь поезда на фронт шли без остановок.
Дважды папу ранило, но он так боялся тыла, что даже бежал из разбомбленного санитарного состава, пусть на передовую, лишь бы не в тыл! Для него тыл — ещё больший страх, боль, это ужас голодной смерти!
Война окончилась для папы в Австрии, а последствия войны устранялись им ещё почти девять лет, вплоть до моего рождения, он не мог есть и спать, храпел и хрипел, у него была перебита челюсть. Его несколько раз оперировали в госпитале в Москве. Так уж вышло.
Были у папы и награды. Орден Отечественной войны нашел его буквально перед кончиной, папа знал о нём и ждал, но получила мама его уже после папиной смерти. Отец ценил и выделял из всех почему-то больше всего единственную награду — медаль «За отвагу». Для него она была истинной солдатской наградой.
Потом папа работал комбайнёром, а после и старшим энергетиком в огромном, богатом совхозе «Мир» Курьинского района всё того же Алтайского края. Успешно окончил техникум в 58 лет, и его фото, как участника ВОВ, красовалось на стенде рядом с фотографиями преподавателей Рубцовского радиотехникума (он один из учащихся был в таком возрасте).
Он построил дом, вырастил, воспитал и выучил совместно с нашей незаметной мамой Натальей Андреевной (в девичестве Нечунаевой) нас, четверых детей. С удовольствием и любовью помогал растить внуков, был предельно щепетилен в вопросах честности и порядочности, много конструировал и совершенствовал, изобретал самоходки и аэросани, использовал их, но это уже другая история — мирное время.
Примечательно, что демобилизованный в этом году папин внук Асланов Михаил (сын старшей дочери Марии и названный в честь уже умершего деда) проходил военную подготовку в части, созданной на базе первого ордена Кутузова и ордена Суворова гвардейского полка (это звание полку присвоили в честь побед в ВОВ). Именно в этом полку сражался в годы Великой Отечественной его дед Михаил Андреевич Шиманов. Случайное совпадение шокировало нашу сестру, но Миша не подвел, оканчивая службу танкистом на Кавказе, охраняя мирную жизнь сородичей, не за просто так получил наградной крест, который вручают только особо отличившимся бойцам в борьбе за мир в горячих точках.
В июле, при демобилизации из армии он заезжал к нам в гости в Воронеж, и, как рассказывала нам с гордостью Мишина мать, моя сестра, в районе Димитровского рынка группа наших воронежских летчиков-курсантов с особым интересом рассматривала непохожего на них и резко отличающегося по одежде бравого солдата-танкиста.